
|
Читайте также: |
Оноре де Бальзак Евгения Гранде

OCR & SpellCheck: Zmiy
«Бальзак О. Гобсек; Евгения Гранде; Отец Горио»:
Юнацтва; Минск; 1981;
Перевод: Ю. Верховский
Аннотация
Роман Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» (1833) входит в цикл «Сцены провинциальной жизни». Созданный после повести «Гобсек», он дает новую вариацию на тему скряжничества: образ безжалостного корыстолюбца папаши Гранде блистательно демонстрирует губительное воздействие богатства на человеческую личность. Дочь Гранде кроткая и самоотверженная Евгения – излюбленный бальзаковский силуэт женщины, готовой «жизнь отдать за сон любви».
Оноре де Бальзак
Евгения Гранде
Марии
Имя ваше, имя той, чей портрет лучшее украшение этого труда, да будет здесь как бы зеленой веткою благословенного букса, сорванною неведомо где, но, несомненно, освященною религией и обновляемою в неизменной свежести благочестивыми руками во хранение дома.
Де Бальзак
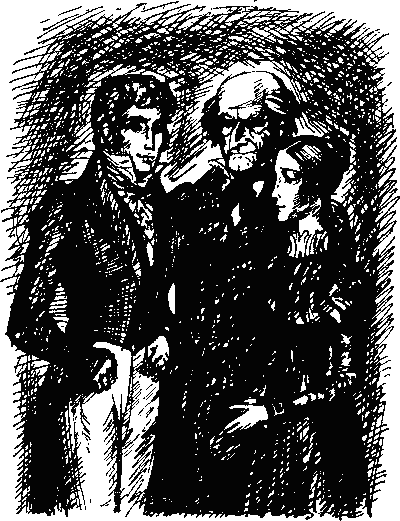
Бывают в иных провинциальных городах такие дома, что одним уже видом своим наводят грусть, подобную той, какую вызывают монастыри самые мрачные, степи самые серые или развалины самые унылые. В этих домах есть что-то от безмолвия монастыря, от пустынности степей и тления развалин. Жизнь и движение в них до того спокойны, что пришельцу показались бы они необитаемыми, если бы вдруг не встретился он глазами с тусклым и холодным взглядом неподвижного существа, чья полумонашеская физиономия появилась над подоконником при звуке незнакомых шагов. Этими характерными чертами меланхолии отмечен облик жилища, расположенного в верхней части Сомюра, в конце кривой улицы, что поднимается в гору и ведет к замку. На улице этой, ныне малолюдной, летом жарко, зимой холодно, местами темно даже днем; примечательна она звонкостью своей мостовой из мелкого булыжника, постоянно сухой и чистой, узостью извилистого пути, тишиною своих домов, принадлежащих к старому городу, над которым высятся древние городские укрепления. Трехвековые эти постройки, хотя и деревянные, еще крепки, и разнородный внешний вид их способствует своеобразию, привлекающему к этой части Сомюра внимание любителей старины и людей искусства. Трудно пройти мимо этих домов и не полюбоваться огромными дубовыми брусьями, концы которых, вырезанные причудливыми фигурами, увенчивают черными барельефами нижний этаж большинства этих домов. Перекрестные балки покрыты шифером и вырисовываются синеватыми полосами на ветхих стенах здания, завершенного деревянной островерхой крышей, осевшей от времени, с гнилым гонтом, покоробленным от переменного действия дождя и солнца. Кое-где виднеются подоконники, затертые, потемневшие, с едва заметной тонкой резьбой, и кажется, что им не выдержать тяжести темного глиняного горшка с кустиками гвоздик или роз, выращенных какой-нибудь бедной труженицей. Далее бросится в глаза узор из огромных шляпок гвоздей, вбитых в ворота, на которых гений предков наших начертал семейные иероглифы, смысл коих никому не разгадать. Не то протестант изложил здесь свое исповедание веры, не то какой-нибудь член Лиги проклял Генриха IV. Некий горожанин вырезал тут геральдические знаки своего именитого гражданства, своего давно забытого славного звания купеческого старшины. Тут вся целиком история Франции. Бок о бок с шатким домом, стены которого покрыты грубой штукатуркой, увековечившей труд ремесленника, возвышается особняк дворянина, где на самой середине каменного свода ворот еще видны следы герба, разбитого революциями, потрясавшими страну с 1789 года. На этой улице нижние этажи купеческих домов заняты не лавками и не складами; почитатели средневековья могут здесь найти неприкосновенным лабаз наших отцов во всей его откровенной простоте. Эти низкие просторные помещения без витрин, без нарядных выставок, без расписных стекол лишены всяких украшений, внутренних и наружных. Тяжелая входная дверь грубо обита железом и состоит из двух частей: верхняя откидывается внутрь, образуя окошко, а нижняя, с колокольчиком на пружине, то и дело отворяется и затворяется. Воздух и свет проникают в это подобие сырой пещеры или через фрамугу, вырезанную над дверью, или через проем меж сводом и низенькой, в высоту прилавка, стенкой, – там в пазах укрепляются крепкие внутренние ставни, которые по утрам снимают, а по вечерам ставят на место и задвигают железными засовами. На этой стенке раскладываются товары. И здесь уж не пускают пыль в глаза. Смотря по роду торговли, образцы состоят из двух или трех кадок, доверху наполненных солью и треской, из нескольких тюков парусного полотна, из канатов, из медной посуды, подвешенной к потолочным балкам, из обручей, поставленных вдоль стен, из нескольких штук сукна на полках. Войдите. Опрятная молоденькая девушка, пышущая здоровьем, в белоснежной косынке, с красными руками, оставляет вязанье, зовет мать или отца. Кто-нибудь из них выходит и продает что вам требуется, – на два су или на двадцать тысяч товару, держась при этом равнодушно, любезно или высокомерно, смотря по характеру. Вы увидите – торговец дубовыми досками сидит у своих дверей и перебирает большими пальцами, разговаривая с соседом, и по виду у него только и есть, что неказистые доски для бочонков да два-три пучка дранок; а на пристани его лесной двор снабжает всех анжуйских бочаров; он высчитал до единой дощечки, сколько бочек он осилит, ежели сбор винограда будет хорош: солнце – и он богач, дождливая погода – он разорен; в одно и то же утро винные бочки стоят одиннадцать франков или падают до шести ливров.[1] В этом краю, как и в Турени, превратности погоды властвуют над торговой жизнью. Виноградари, землевладельцы, лесоторговцы, бочары, трактирщики, судовщики – все подстерегают солнечный луч; ложась вечером спать, они дрожат, как бы утром не узнать, что ночью морозило; они опасаются дождя, ветра, засухи и хотят влаги, тепла, облаков – что кому на руку. Происходит непрерывный поединок между небом и земной корыстью. Барометр попеременно опечаливает, просветляет, озаряет весельем физиономии. Из конца в конец этой улицы, древней Большой улицы Сомюра, слова «Золотой денек!» перелетают от крыльца к крыльцу. И каждый отвечает соседу. «Луидоры[2] с неба льются», – понимая, что несет ему луч солнца или дождь, подоспевший вовремя. В летнюю пору по субботам уже с полудня не купить ни на грош товару у этих честных купцов. У каждого свой виноградник, свой хуторок, и всякий дня на два отправляется за город. Тут, когда все рассчитано – покупка, продажа, прибыль, – у торговцев остается десять часов из двенадцати на пикники, на всяческие пересуды, непрестанные подглядывания друг за другом. Хозяйке нельзя купить куропатку без того, чтобы соседи потом не спросили мужа, удачно ли птица зажарилась. Девушке нельзя высунуть голову из окна, чтобы со всех сторон не увидели ее кучки праздных людей. Здесь ведь и душевная жизнь каждого у всех на виду точно так же, как и все события, происходящие в этих непроницаемых, мрачных и безмолвных домах. Жизнь обывателей почти вся проходит на вольном воздухе. Каждая семья усаживается у своего крыльца, тут и завтракает, и обедает, и ссорится. Всякого, кто пройдет по улице, оглядывают с головы до ног. А встарь стоило только чужаку появиться в провинциальном городе, его начинали высмеивать у каждой двери. Отсюда – забавные рассказы, отсюда – прозвище пересмешники, данное обывателям Анжера, которые особенно отличались в этих пересудах.
Древние особняки старого города расположены в верхней части улицы, некогда населенной местными дворянами. Угрюмый дом, где протекали события, описанные в этой истории, был как раз одним из таких обиталищ, почтенным осколком былого века, когда вещи и люди отличались той простотою, которую французские нравы утрачивают с каждым днем. Пройдя по этой живописной улице, где каждая извилина пробуждает воспоминания о старине, а общее впечатление навевает невольную унылую задумчивость, вы замечаете довольно темный свод, в середине которого сокрыта дверь дома господина Гранде. Невозможно понять все значение этого словосочетания, не зная биографии г-на Гранде.
Господин Гранде пользовался в Сомюре особой репутацией, и она не вполне будет понята теми, кто не жил хоть короткое время в провинции. Г-н Гранде, все еще именуемый некоторыми «папаша Гранде», хотя число таких стариков заметно уменьшалось, был в 1789 году простым бочаром, но с большим достатком, умел читать, писать и считать. Когда французская республика пустила в продажу в Сомюрском округе земли духовенства, бочар Гранде, которому было тогда сорок лет, только что женился на дочери богатого торговца лесными материалами. Имея на руках свои собственные наличные средства и приданое жены, а всего две тысячи луидоров, Гранде отправился в главный город округа, где благодаря взятке в двести дублонов, предложенной его тестем суровому республиканцу, заведовавшему продажей национальных имуществ, он за бесценок приобрел, если и не вполне законно, то законным порядком, лучшие в округе виноградники, старое аббатство и несколько ферм. Сомюрские обыватели были мало революционны, и папашу Гранде сочли за смелого человека, республиканца, патриота, за умную голову, приверженную новым идеям, тогда как бочар был просто привержен к виноградникам. Он был избран членом административного управления Сомюрского округа, а там его миролюбивое влияние сказалось как в политическом, так и в коммерческом отношении. В политике он покровительствовал бывшим людям и всеми силами противился продаже имений эмигрантов; в коммерции. – он снабдил республиканские армии тысячью или двумя тысячами бочек белого вина и сумел добиться, чтобы ему заплатили за них великолепными лугами из владений одного женского монастыря, оставленных для продажи в последнюю очередь. При Консульстве добряк Гранде сделался мэром, управлял хорошо, а собирал виноград и того лучше; во время Империи он уже стал господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев; г-на Гранде, который слыл за человека, щеголявшего в красном колпаке,[3] он заменил крупным землевладельцем, носившим фамилию с частицей «де», будущим бароном Империи. Г-н Гранде расстался с муниципальным почетом без малейшего сожаления. Он уже успел проложить «на пользу города» превосходные дороги, которые вели к его собственным владениям. Дом и имения Гранде, очень выгодно для него оцененные по поземельной росписи, облагались налогами умеренными. Виноградники его благодаря непрестанным заботам хозяина стали «головкой края» – техническое выражение, обозначающее виноградники, которые дают вино высшего качества. Он мог бы испросить себе крест Почетного легиона. Это и произошло в 1806 году. Г-ну Гранде было в то время пятьдесят семь лет, а жене его – около тридцати шести. Единственная их дочь, плод законной любви, была тогда в возрасте десяти лет. Г-н Гранде, которого, несомненно, провидение пожелало вознаградить за его служебную опалу, в этом году получил одно за другим три наследства: от г-жи де ла Годиньер, урожденной де ла Бертельер, матери г-жи Гранде; затем – от старика де ла Бертельер, отца покойной тещи; и еще от г-жи Жантийе, бабушки с материнской стороны, – три наследства, размеры которых никому не были известны. Скупость этих трех стариков превратилась в такую сильную страсть, что уже с давних пор они держали свои деньги в сундуках, чтобы тайком любоваться ими. Старик де ла Бертельер всякое помещение денег в оборот называл мотовством, находя больше радости в созерцании золота, нежели в доходах от ростовщичества. Город Сомюр предположительно определял накопления г-на Гранде по его недвижимости. В ту пору Гранде приобрел тот высокий титул, который наше безумное пристрастие к равенству никогда не уничтожит: он стал первостепенным налогоплательщиком округа. У него было сто арпанов[4] виноградника, который в урожайные годы давал ему от семисот до восьмисот бочек вина. Ему принадлежали также тринадцать ферм, старое аббатство, где из бережливости он заштукатурил окна, стрелки сводов и витражи, что их и сохраняло; да еще – сто двадцать семь арпанов лугов, где росли и увеличивались в объеме три тысячи тополей, посаженных в 1793 году. Наконец, и дом, где он жил, был его собственностью. Так определяли размеры его состояния, очевидные для всех. Что до его капиталов, то только два лица могли иметь смутное представление об их величине: одним из этих лиц был нотариус Крюшо, постоянный поверенный г-на Гранде по помещению в рост его капиталов; другим – г-н де Грассен, самый богатый сомюрский банкир, в операциях и барышах которого винодел имел долю по тайному соглашению. Хотя старик Крюшо и г-н де Грассен умели хранить тайну, – это в провинции вызывает доверие и выгодно отражается на делах, – однако оба они весьма откровенно оказывали г-ну Гранде столь великое уважение, что наблюдательные люди могли догадаться о внушительных размерах капиталов бывшего мэра по угодливому заискиванию, предметом которого он являлся. В Сомюре все были уверены, что у г-на Гранде припрятан целый клад, что у него есть тайник, полный луидоров, и там он по ночам доставляет себе несказанное наслаждение, созерцая груду накопленного золота. Скупцы чувствовали какую-то уверенность в этом, поглядев в глаза старику Гранде, которым желтый металл как будто передал свои краски. Взгляд человека, привыкшего извлекать из своих капиталов огромные барыши, как и взгляд сластолюбца, игрока или царедворца, неизбежно приобретает некие неопределимые навыки, выражая беглые, жадные, загадочные движения чувств, которые не ускользают от единоверцев. Этот тайный язык образует в некотором роде франкмасонство страстей. Итак, г-н Гранде внушал всем уважение, как человек, который никогда и никому ничего не был должен, как старый бочар и старый винодел, определявший с астрономической точностью, нужно ли для сбора винограда заготовить тысячу бочек или только пятьсот; как человек, который не упускал ни одной спекуляции, имел всегда на продажу бочки, когда бочка стоила дороже, чем само вино, мог спрятать все свое вино нового урожая в подвалы и выжидать случая сбыть бочку за двести франков, когда мелкие виноделы уступают свои за пять золотых. Его знаменитый сбор 1811 года, благоразумно припрятанный, неспешно проданный, принес ему более двухсот сорока тысяч ливров. В коммерции г-н Гранде был похож на тигра и на боа: он умел лечь, свернуться в клубок, долго вглядываться в свою добычу и ринуться на нее; потом он разевал пасть своего кошелька, проглатывал очередную долю экю и спокойно укладывался, как змея, переваривающая пищу; все это проделывал он бесстрастно, холодно, методически. Когда он проходил по улицам, все смотрели на него с чувством почтительного восхищения и страха. Каждый в Сомюре испытал на себе вежливую хватку его стальных когтей: такому-то нотариус Крюшо достал у него денег на покупку имения, но из одиннадцати процентов; этому г-н де Грассен учел вексель, но с ужасающим учетным процентом. Редко выдавались дни, когда имя г-на Гранде не упоминалось либо на рынке, либо вечерами в разговорах обывателей. Для иных богатство старого винодела служило предметом патриотической гордости. И не один купец, не один трактирщик говаривал приезжим с некоторой хвастливостью:
– Есть, сударь, тут у нас два или три торговых предприятия миллионных. А уж что до господина Гранде, так он и сам своим деньгам счету не знает.
В 1816 году наиболее искусные счетчики Сомюра оценивали земельные владения старика Гранде почти в четыре миллиона; но так как, по среднему расчету, он за время с 1793 по 1817 год должен был выручать со своих владений по сто тысяч франков ежегодно, то можно было предполагать, что наличными деньгами у него была сумма, почти равная стоимости его недвижимого имущества. И когда после партии в бостон или какой-нибудь беседы о виноградниках заходила речь о г-не Гранде, люди сообразительные говорили:
– Папаша Гранде?.. У папаши Гранде верных шесть-семь миллионов.
– Вы ловчее меня. Мне так и не удалось узнать общей суммы, – отвечали г-н Крюшо или г-н де Грассен, если слышали такой разговор.
Когда заезжий парижанин говорил о Ротшильдах или о г-не Лафите, сомюрцы спрашивали, так же ли они богаты, как г-н Гранде. Если парижанин с пренебрежительной улыбкой бросал положительный ответ, они переглядывались и недоверчиво покачивали головами. Такое огромное состояние накидывало золотое покрывало на все поступки этого человека. Прежде некоторые странности его жизни давали повод к насмешкам и шуткам, но теперь и насмешки и шутки иссякли. Что бы ни делал г-н Гранде, авторитет его был непререкаем. Его речь, одежда, жесты, мигание его глаз были законом для всей округи, где всякий, предварительно изучив его, как натуралист изучает действия инстинкта у животных, мог познать всю глубокую и безмолвную мудрость его ничтожнейших движений.
– Суровая будет зима, – говорили люди, – папаша Гранде надел меховые перчатки. Нужно убирать виноград.
– Папаша Гранде берет много бочарных досок, – быть в этом году вину.
Г-н Гранде никогда не покупал ни мяса, ни хлеба. Его фермеры-испольщики привозили ему каждую неделю достаточный запас каплунов, цыплят, яиц, масла и пшеницы. У него была мельница; арендатор обязан был, помимо договорной платы, приезжать за определенным количеством зерна, смолоть его и привезти муку и отруби. Нанета-громадина, его единственная прислуга, хотя была уже не молода, каждую субботу сама пекла хлеб для семьи. Г-н Гранде уговорился со своими съемщиками-огородниками, чтобы они снабжали его овощами. А что касается фруктов, то он собирал их так много, что значительную часть отправлял продавать на рынок. На дрова он рубил сухостой в своих живых изгородях или пользовался старыми, полусгнившими пнями, корчуя их по краям своих полей; его фермеры безвозмездно привозили ему в город дрова уже распиленными, из любезности складывали их в сарай и получали словесную благодарность. Расходовал он деньги, как то известно было всем, только на освященный хлеб, на одежду жене и дочери и на оплату их стульев в церкви, на освещение, на жалованье Нанете, на лужение кастрюль, на налоги, на ремонт построек и издержки по своим предприятиям. У него было шестьсот арпанов лесу, недавно купленного; надзор за ним Гранде поручил соседскому сторожу, пообещав ему за это вознаграждение. Только после приобретения лесных угодий к столу у него стали подавать дичь. В обращении он был чрезвычайно прост, говорил мало и обычно выражал свои мысли короткими поучительными фразами, произнося их вкрадчивым голосом. Со времени революции, когда Гранде привлек к себе внимание, он стал утомительнейшим образом заикаться, как только ему приходилось долго говорить или выдерживать спор. Косноязычие, несвязность речи, поток слов, в котором он топил свою мысль, явный недостаток логики, приписываемый отсутствию образования, – все это подчеркивалось им и будет в должной мере объяснено некоторыми происшествиями этой истории. Впрочем, четыре фразы, точные, как алгебраические формулы, обычно помогали ему соображать и разрешать всевозможные затруднения в жизни и торговле: «Не знаю. Не могу. Не хочу. Посмотрим». Он никогда не говорил ни да, ни нет и никогда не писал. Если ему что-нибудь говорили, он слушал хладнокровно, поддерживая подбородок правой рукой и опершись локтем на ладонь левой руки, и о каждом деле составлял себе мнение, которого уже не изменял. Он длительно обдумывал даже самые мелкие сделки. Когда, после хитрого разговора, собеседник, уверенный, что держит его в руках, выдавал ему тайну своих намерений, Гранде отвечал:
– Ничего не могу решить, пока с женой не посоветуюсь.
Его жена, доведенная им до полного рабства, была для него в делах самой удобной ширмой. Он никогда ни к кому не ходил и к себе не приглашал, не желая устраивать званых обедов; никогда не производил никакого шума и, казалось, экономил на всем, даже на движениях. У чужих он ни к чему не притрагивался из укоренившегося в нем почтения к собственности. Тем не менее наперекор вкрадчивости голоса, наперекор осмотрительной манере держаться у него прорывались выражения и замашки бочара, особенно когда он был дома, где сдерживал себя меньше, чем в любом другом месте. По внешности Гранде был мужчина в пять футов ростом, коренастый, плотный, с икрами ног по двенадцати дюймов в окружности, с узловатыми суставами и широкими плечами; лицо у него было круглое, топорное, рябое; подбородок прямой, губы без всякого изгиба, а зубы очень белые; выражение глаз спокойное и хищное, какое народ приписывает василиску; лоб, испещренный поперечными морщинами, не без характерных бугров, волосы – рыжеватые с проседью – золото и серебро, как говорил кое-кто из молодежи, еще не зная, что значит подшучивать над г-ном Гранде. На носу у него, толстом к концу, была шишка с кровяными жилками, которую народ не без основания считал признаком коварства. Это лицо выдавало опасную хитрость, холодную честность, эгоизм человека, привыкшего сосредоточивать все свои чувства на утехах скряжничества; только одно существо было ему хоть немного дорого – дочь Евгения, единственная его наследница. Манера держать себя, приемы, походка – все в нем свидетельствовало о той уверенности в себе, какую дает привычка к удаче во всех своих предприятиях. Г-н Гранде, на вид нрава уживчивого и мягкого, отличался железным характером. Одет он был всегда одинаково и по внешности был все тот же, что и в 1791 году. Его грубые башмаки завязывались кожаными шнурками; во всякое время года он носил валяные шерстяные чулки, короткие штаны толстого коричневого сукна с серебряными пряжками, бархатный двубортный жилет в желтую и темно-коричневую полоску, просторный, всегда наглухо застегнутый длиннополый сюртук каштанового цвета, черный галстук и квакерскую шляпу. Перчатки, прочные, как у жандармов, служили ему двадцать месяцев, и, чтобы не пачкать, он привычным движением клал их на поля шляпы, всегда на то же место. Сомюр ничего больше не знал об этом человеке.
Из всех городских обывателей только шестеро пользовались правом посещать дом г-на Гранде. Самым значительным из первых трех был племянник г-на Крюшо. Со дня своего назначения председателем сомюрского суда первой инстанции этот молодой человек к фамилии Крюшо присоединил еще де Бонфон и всеми силами старался, чтобы Бонфон возобладал над Крюшо. Он уже и подписывался: К. де Бонфон. Несообразительный истец, назвавший его «господином Крюшо», вскоре на судебном заседании догадывался о своей оплошности. Судья мирволил тем, кто называл его «господин председатель», и отличал благосклоннейшими улыбками льстецов, именовавших его «господин де Бонфон». Председателю было тридцать три года; ему принадлежало имение Бонфон; (Boni fontis[5]), дававшее семь тысяч ливров дохода; он ждал наследства после своего дяди-нотариуса и после другого своего дяди – аббата Крюшо, сановного члена капитула Сен-Мартен де Тур, – оба считались довольно богатыми. Трое этих Крюшо, поддержанные изрядным числом родственников, связанные с двадцатью семьями в городе, образовали своего рода партию, как некогда Медичи во Флоренции; и как у Медичи, у Крюшо были свои Пацци.[6] Г-жа де Грассен, родительница двадцатитрехлетнего сына, неукоснительно являлась к г-же Гранде составить ей партию в карты, надеясь женить своего дорогого Адольфа на мадемуазель Евгении. Банкир де Грассен усиленно содействовал проискам своей жены постоянными услугами, которые втайне оказывал старому скряге, и всегда вовремя являлся на поле битвы. У этих троих де Грассенов тоже были свои приверженцы, свои родичи, свои верные союзники.
Со стороны Крюшо старик аббат, Талейран этого семейства, опираясь на своего брата-нотариуса, бодро оспаривал позицию у банкирши и пытался уберечь богатое наследство для своего племянника, председателя суда. Тайный бой между Крюшо и Грассенами, в котором наградой была рука Евгении Гранде, страстно занимал разнообразные круги сомюрского общества. Выйдет ли мадемуазель Гранде за господина председателя или за господина Адольфа де Грассена? Одни разрешали эту проблему в том смысле, что г-н Гранде не отдаст свою дочь ни за того, ни за другого. Бывший бочар, снедаемый честолюбием, говорили они, подыскивает себе в зятья какого-нибудь пэра Франции, которого триста тысяч ливров дохода заставят помириться со всеми прежними, настоящими и будущими бочками дома Гранде. Другие возражали, что супруги де Грассен оба благородного происхождения и очень богаты, что Адольф очень милый кавалер, и, если только за Евгению не посватается племянник самого папы, такой союз должен был бы удовлетворить человека, вышедшего из низкого звания, бывшего бочара, которого весь Сомюр видел со скобелем в руках и к тому же носившего в свое время красный колпак. Наиболее рассудительные указывали, что для г-на Крюшо де Бонфон двери дома были открыты во всякое время, тогда как его соперника принимали только по воскресеньям. Одни утверждали, что г-жа де Грассен теснее, чем Крюшо, связана с дамами семейства Гранде, имеет возможность внушить им определенные мысли, а поэтому рано или поздно добьется своего. Другие возражали, что аббат Крюшо самый вкрадчивый человек на свете и что женщина против монаха – игра равная. «Два сапога – пара», – говорил некий сомюрский остроумец.
Местные старожилы, более осведомленные, полагали, что Гранде слишком осторожен и не выпустит богатства из рук семьи, сомюрская Евгения Гранде выйдет за сына парижского Гранде, богатого оптового виноторговца. На это и крюшотинцы и грассенисты отвечали:
– Прежде всего, за тридцать лет братья не виделись и двух раз. А затем парижский Гранде для своего сына метит высоко. Он мэр своего округа, депутат, полковник национальной гвардии, член коммерческого суда. Он не признает сомюрских Гранде и намерен породниться с семьей какого-нибудь герцога милостью Наполеона.
Чего только не говорили о наследнице этого состояния, о ней судили и рядили на двадцать лье кругом и даже в дилижансах от Анжера до Блуа включительно! В начале 1819 года крюшотинцы явно взяли перевес над грассенистами. Как раз тогда было назначено в продажу имение Фруафон, замечательное своим парком, восхитительным замком, фермами, речками, прудами, лесами, – имение ценностью в три миллиона; молодой маркиз де Фруафон нуждался в деньгах и решил реализовать свое недвижимое имущество. Нотариус Крюшо, председатель Крюшо и аббат Крюшо с помощью своих приверженцев сумели помешать распродаже имения мелкими участками. Нотариус заключил с маркизом очень выгодную сделку, уверив его, что пришлось бы вести бесконечные судебные тяжбы с отдельными покупщиками, прежде чем они уплатят за участки, гораздо лучше продать все поместье г-ну Гранде, человеку состоятельному и к тому же готовому заплатить наличными деньгами. Прекрасный фруафонский маркизат был препровожден в глотку г-на Гранде, который, к великому удивлению всего Сомюра, после необходимых формальностей, учтя проценты, заплатил за поместье чистоганом. Это событие наделало шуму и в Нанте и в Орлеане. Г-н Гранде отправился посмотреть свой замок, воспользовавшись оказией, – в тележке, которая туда возвращалась. Окинув хозяйским взором свое владение, он возвратился в Сомюр, уверенный, что затраченные им деньги будут приносить пять процентов, и задавшись смелой мыслью округлить фруафонский маркизат, присоединив к нем все свои владения. Затем, чтобы пополнить свою почти опустевшую казну, он решил начисто вырубить свои рощи и леса, а также свести на продажу и тополя у себя на лугах.
Теперь легко понять все значение слов: «дом господина Гранде», – дом угрюмо-холодный, безмолвный, расположенный в высокой части города и укрытый развалинами крепостной стены. Два столба и глубокая арка, под которой находились ворота, были, как и весь дом, сложены из песчаника – белого камня, которым изобилует побережье Луары, настолько мягкого, что его прочности едва хватает в среднем на двести лет. Множество неровных, причудливо расположенных дыр – следствие переменчивого климата, – сообщали арке и косякам входа характерный для французской архитектуры вид, как будто они были источены червями, и некоторое сходство с тюремными воротами. Над аркой высился продолговатый барельеф из крепкого камня, но высеченные на нем аллегорические фигуры – четыре времени года – уже выветрились и совершенно почернели. Над барельефом выступал карниз, на котором росло несколько случайно попавших туда растений – желтые стенницы, повилика, вьюнок, подорожник и даже молоденькая вишня, уже довольно высокая. Массивные дубовые ворота, темные, ссохшиеся, растрескавшиеся со всех концов, ветхие с виду, крепко поддерживались системой болтов, составлявших симметрические рисунки. Посредине ворот, в калитке, было прорезано маленькое квадратное отверстие, забранное частой решеткой с побуревшими от ржавчины железными прутьями, и она служила, так сказать, основанием для существования дверного молотка, прикрепленного к ней кольцом и ударявшего по кривой приплюснутой головке большого гвоздя. Этот молоток продолговатой формы из тех, что наши предки называли «жакмаром», походил на жирный восклицательный знак; исследуя его внимательно, антиквар нашел бы в нем некоторые признаки характерной шутовской физиономии, каковую он некогда изображал; она истерлась от долгого употребления молотка. Поглядев в это решетчатое оконце, предназначавшееся во времена гражданских войн для распознавания друзей и врагов, любопытные могли бы увидеть темный зеленоватый свод, а в глубине двора несколько обветшалых ступеней, по которым поднимались в сад, живописно огражденный толстыми стенами, сочащимися влагой и сплошь покрытыми худосочными пучками зелени. Это были стены городских укреплений, над которыми на земляных валах высились сады нескольких соседних домов.
В нижнем этаже дома самой главной комнатой был зал, – вход туда был устроен под сводом ворот. Немногие понимают, какое значение имеет зал в маленьких родах Анжу, Турени и Берри. Зал представляет собою одновременно переднюю, гостиную, кабинет, будуар и столовую, является основным местом домашней жизни, ее средоточием; сюда являлся два раза в год местный цирюльник подстригать волосы г-ну Гранде; здесь принимали фермеров, приходского священника, супрефекта, подручного мельника. В этой комнате с двумя окнами на улицу пол был дощатый; сверху донизу она была обшита серыми панелями с древним орнаментом; потолок состоял из неприкрытых балок, также выкрашенных в серый цвет, с промежутками, заткнутыми белой пожелтелой паклей. Полку камина, сложенного из белого камня с грубой резьбой, украшали старые медные часы, инкрустированные роговыми арабесками; на ней стояло также зеленоватое зеркало, края которого срезаны были фацетом, чтобы показать его толщину, они отражались светлой полоской в старинном трюмо, оправленном в стальную раму с золотой насечкой. Пара медных позолоченных жирандолей, поставленных по углам камина, имела два назначения: если убрать служившие розетками розы, большая ветка которых была прилажена к подставке из голубоватого мрамора, отделанной старой медью, то эта подставка могла служить подсвечником для малых семейных приемов. На обивке кресел старинной формы были вытканы сцены из басен Лафонтена,[7] но это нужно было знать заранее, чтобы разобрать их сюжеты, – с таким трудом можно было разглядеть выцветшие краски и протертые до дыр изображения. По четырем углам зала помещались угловые шкапы вроде буфетов с засаленными этажерками по сторонам. В простенке между двумя окнами помещался старый ломберный столик, верх которого представлял собою шахматную доску. Над столиком висел овальный барометр с черным ободком, украшенный перевязями из позолоченного дерева, но до того засиженный мухами, что о позолоте можно было только догадываться. На стене, противоположной камину, красовались два портрета, которые должны были изображать деда г-жи Гранде, старого г-на де ла Бертельер, в мундире лейтенанта французской гвардии, и покойную г-жу Жантийе в костюме пастушки. На двух окнах были красные гродетуровые занавеси, перехваченные шелковыми шнурами с кистями по концам. Эта роскошная обстановка, так мало соответствовавшая привычкам Гранде, была приобретена им вместе с домом, так же как трюмо, часы, мебель с гобеленовой обивкой и угловые шкапы розового дерева. У окна, ближайшего к двери, находился соломенный стул с ножками, поставленными на подпорки, чтобы г-жа Гранде могла видеть прохожих. Простенький рабочий столик вишневого дерева занимал всю нишу окна, а возле вплотную стояло маленькое кресло Евгении Гранде. В течение пятнадцати лет с апреля по ноябрь все дни матери и дочери мирно протекали на этом месте в постоянной работе; первого ноября они могли переходить на зимнее положение – к камину. Только с этого дня Гранде позволял разводить в камине огонь и приказывал гасить его тридцать первого марта, не обращая внимания на весенние и осенние заморозки. Ножная грелка с горячими углями из кухонной печи, которые умело сберегала для своих хозяек Нанета-громадина, помогала им переносить холодные утра или вечера в апреле и октябре. Мать и дочь шили и чинили белье для всей семьи, обе добросовестно работали целыми днями, словно поденщицы, и когда Евгении хотелось вышить воротничок для матери, ей приходилось урывать время от часов, назначенных для сна, обманывать отца, пользуясь украдкой свечами. Уже с давних пор скряга по счету выдавал свечи дочери и Нанете, точно так же, как с утра распределял хлеб и съестные припасы на дневное потребление.
Нанета-громадина была, пожалуй, единственным человеческим существом, способным полностью примириться с деспотизмом хозяина. Весь город завидовал супругам Гранде из-за этой Нанеты. Нанета-громадина, прозванная так за свой рост в пять футов восемь дюймов, служила у Гранде уже тридцать пять лет. Хотя она получала всего только шестьдесят ливров жалованья, ее считали одной из самых богатых служанок во всем Сомюре. Эти шестьдесят ливров, нараставшие в течение тридцати пяти лет, дали ей возможность недавно поместить у нотариуса Крюшо четыре тысячи ливров в обеспечение пожизненной ренты. Такой итог долгих и настойчивых сбережений Нанеты-громадины представлялся непомерным. Всякая служанка, видя, что у бедной шестидесятилетней женщины оказался кусок хлеба на старости лет, завидовала ей, не думая о том, ценою какого жестокого рабства он достался. Когда Нанете было двадцать два года, она ни у кого не могла найти себе места, до такой степени внешность ее казалась отталкивающей; а на самом деле это впечатление было очень несправедливо: будь ее голова на плечах какого-нибудь гвардейского гренадера, ею любовались бы, но всему, говорят, свое место. Нанета, принужденная после пожара покинуть ферму, где она ходила за коровами, пришла в Сомюр и искала себе места, воодушевляемая твердой решимостью не отказываться ни от какой работы. В то время Гранде подумывал о женитьбе и уже хотел налаживать свое хозяйство. Он высмотрел эту девушку, которую спроваживали от двери к двери. Умея, как истый бочар, ценить физическую силу, он понял, какую выгоду можно извлечь из существа женского пола, сложенного, как Геркулес, твердо стоявшего на ногах, как шестидесятилетний дуб на корнях своих, существа с широкими бедрами и квадратной спиной, с руками ломового извозчика и с честностью непоколебимой, как ее нетронутое целомудрие. Ни бородавки, украшавшие это лицо воина, ни его кирпичный цвет, ни жилистые руки, ни рубище Нанеты не отпугнули бочара, который был еще в тех летах, когда сердце способно трепетать. Он накормил, одел, обул бедную девушку и взял ее на работу, положил ей жалованье и обращался с нею не слишком сурово. Видя такой прием, Нанета-громадина втихомолку плакала от радости и искренне привязалась к бочару, который, впрочем, пользовался ее трудом по-феодальному. Нанета делала все: она стряпала, стирала, ходила на Луару полоскать белье, тащила его на своих плечах, она поднималась с рассветом, ложилась поздно, готовила еду для всех работников во время сбора винограда, наблюдала за ними, охраняла, как верный пес, добро своего хозяина; наконец, питая к нему слепое доверие, она безропотно повиновалась самым нелепым его фантазиям. В знаменитом 1811 году, когда сбор винограда стоил неслыханных трудов, Гранде решил подарить Нанете за двадцатилетнюю службу свои старые часы – единственный подарок, полученный ею от него за всю жизнь. Правда, он отдавал ей свои старые башмаки (они ей были впору), однако башмаки Гранде после трехмесячной носки невозможно рассматривать как подарок, настолько они бывали уже изношены. Бедная девушка волей-неволей сделалась такой скупой, что Гранде в конце концов полюбил ее, как любят собаку, и Нанета допустила, чтобы на нее надели ошейник, утыканный шипами, которые уже не кололи ее. Если Гранде нарезал хлеб слишком уж скаредно, она на это не жаловалась; она весело переносила вместе со всеми строгий режим питания, установленный Гранде и имевший некоторые гигиенические преимущества: в доме никто никогда не хворал.
Нанета стала членом семьи: она смеялась, когда смеялся Гранде, печалилась, зябла, отогревалась, работала вместе с ним. Сколько сладостного удовлетворения в этом равенстве! Никогда хозяин не попрекал служанку, если она съедала под деревом падалицу – персик или сливу.
– Ладно, угощайся, Нанета, – говорил он ей в такие годы, когда в садах ветки сгибались под тяжестью плодов и фермерам приходилось кормить ими свиней.
Для деревенской девушки, в юности встречавшей только плохое обращение, для нищенки, призренной из милости, лукавый смешок папаши Гранде был истинным лучом солнечного света. К тому же чистое сердце и ограниченный ум Нанеты не могли вместить более одного чувства и одной мысли. Тридцать пять лет подряд ей все вспоминалось, как она подошла к порогу мастерской г-на Гранде, босиком, в лохмотьях; ей постоянно слышалось, как бочар сказал: «Что вам угодно, красавица? – и признательность ее была всегда юной. Порою Гранде, думая о том, что это бедное создание никогда не слышало хотя бы малейшего лестного слова, что ей неизвестны нежные чувства, внушаемые женщиной, и что она может в свое время предстать перед богом более непорочной, нежели сама дева Мария, – Гранде, охваченный умилением, говорил, глядя на нее:
– Бедняжка Нанета!
На это восклицание старая служанка всегда отвечала ему неизъяснимым взглядом. Эти слова, повторяемые хозяином время от времени, издавно образовали цепь неразрывной дружбы и каждый раз прибавляли к ней новое звено. В жалости, нашедшей себе место в сердце Гранде и благодарно принятой старой девой, было нечто невыразимо ужасное. То была жестокая жалость скряги, весьма приятно щекотавшая себялюбие старого бочара, но для Нанеты она являлась вершиною счастья. Кто не повторит: «Бедняжка Нанета!» Господь узнает ангелов своих по оттенкам их голосов и по сокровенному смыслу их сочувствия. В Сомюре было очень много семейств, где со слугами обращались лучше, но, несмотря на это, они не питали к хозяевам особой признательности, и в городе говорили:
– Что же такое делают господа Гранде для своей Нанеты-громадины? Почему она так к ним привязана? Она ради них в огонь бросится!
Ее кухня с решетчатыми окнами во двор была всегда чистой, опрятной, холодной – настоящей кухней скряги, где ничто не должно было пропадать зря. Кончив мыть посуду, прибрав остатки обеда, Нанета гасила огонь под плитой, уходила из кухни, отделенной от зала коридором, и шла прясть пеньку возле своих хозяев. Одной свечи было достаточно для всей семьи на целый вечер.
Служанка спала в конце коридора, в закоулке, еле освещенном оконцем, которое заслонялось стеной. Могучее здоровье позволяло ей жить безнаказанно в этой конуре, откуда она могла слышать малейший шум среди глубокого безмолвия, царившего в доме день и ночь. Она была обязана, как сторожевой пес, спать вполглаза и отдыхать бодрствуя.
Описание прочих комнат этого обиталища будет связано с событиями нашего повествования; а впрочем, набросок зала, где блистала вся роскошь дома Гранде, позволит догадаться, до чего убого было убранство покоев в верхних этажах.
В половине октября 1819 года ранним вечером Нанета в первый раз затопила камин. Осень стояла прекрасная. На этот день приходился праздник, хорошо памятный крюшотинцам и грассенистам. Все шестеро противников готовились прийти во всеоружии, встретиться в этом зале и превзойти друг друга в доказательствах дружбы. Утром весь Сомюр видел, как г-жа Гранде и Евгения в сопровождении Нанеты шли в приходскую церковь к обедне, и всякий вспомнил, что это день рождения мадемуазель Евгении. Поэтому, рассчитав час, когда должен был кончиться семейный обед, нотариус – Крюшо, аббат Крюшо и г-н де Бонфон поспешили явиться раньше Грассенов поздравить мадемуазель Гранде. Все трое несли по огромному букету, набранному в их маленьких теплицах. Стебли цветов, которые собирался поднести председатель суда, были искусно обернуты белой атласной лентой с золотою бахромой. Утром г-н Гранде, следуя обыкновению, заведенному для памятных дней рождения и именин Евгении, пришел в ее комнату, когда она еще лежала в постели, и торжественно вручил ей отеческий свой подарок, состоявший, вот уже тринадцать лет, из редкой золотой монеты. Г-жа Гранде обыкновенно дарила дочери платье, зимнее или летнее (смотря по обстоятельствам). Эти платья да золотые монеты, которые Евгения получала от отца в Новый год и в день именин, составляли маленький доход, приблизительно в сотню экю, и Гранде приятно было видеть, как она его копит. Ведь это было все равно, что перекладывать свои деньги из одного ящика в другой и на мелочах, так сказать, воспитывать скупость в наследнице; иногда он требовал отчета о ее казне, когда-то приумноженной ла Бертельерами, и говорил ей:
– Это будет твоей свадебной дюжиной.
Дарить дюжину – старинный обычай, еще процветающий и свято хранимый в некоторых местностях средней Франции. В Берри, в Анжу, когда девушка выходит замуж, ее семья или семья ее жениха обязана подарить невесте кошелек, содержащий, смотря по состоянию, двенадцать монет или двенадцать дюжин монет, или двенадцать сотен серебряных или золотых монет. Самая бедная пастушка не пошла бы замуж без своей «дюжины», пусть она состоит хоть из медяков. В Иссудене до сих пор рассказывают о «дюжине», поднесенной одной богатой наследнице и состоявшей из ста сорока четырех португальских золотых. Папа Климент VII, дядя Екатерины Медичи, выдавая ее за Генриха II, подарил ей дюжину золотых античных медалей огромной ценности.
За обедом отец, любуясь своей дочерью, похорошевшей в новом платье, воскликнул:
– Раз уж сегодня рождение Евгении, затопим камин! Это будет доброй приметой!
– Выйти барышне замуж в этот год, уж это верно! – сказала Нанета-громадина, унося остатки гуся, этого фазана бочаров.
– Я не вижу для нее достойной партии в Сомюре, – ответила г-жа Гранде, глядя на своего мужа с робким видом, совсем не соответствовавшим ее годам и показывавшим полное супружеское рабство, под гнетом которого изнывала эта бедная женщина.
Гранде оглядел дочь и весело крикнул:
– Ей, деточке, исполнилось сегодня двадцать три года, скоро нужно будет позаботиться о ней!
Евгения с матерью молча переглянулись понимающим взглядом.
Госпожа Гранде была женщина иссохшая, желтая, как лимон, неловкая, медлительная, – одна из тех женщин, которые, кажется, созданы для того, чтобы над ними тиранствовали. Она была ширококостна, с большим носом, большим лбом, большими глазами навыкате, и при первом взгляде на нее вспоминались дряблые плоды, в которых больше нет ни вкуса, ни сока. Зубы у нее были черные и редкие, рот увядший, подбородок, как говорится, калошей. Однако это была прекрасная женщина, истинная ла Бертельер. Аббат Крюшо не раз находил предлог сказать ей, что она в свое время была недурна собой, и она этому верила. Ангельская ее кротость, покорность букашки, истязаемой детьми, редкое благочестие, невозмутимое смирение, доброе сердце вызывали у всех жалость и уважение к ней. Муж никогда не давал ей больше шести франков зараз на ее мелкие расходы, хотя своим приданым и полученными ею наследствами она принесла г-ну Гранде более трехсот тысяч франков. Однако эта женщина, смешная по внешности, была наделена высокой душой, она всегда чувствовала себя столь глубоко униженной зависимостью и порабощением, против которого кротость не позволяла ей восставать, что никогда не спросила у мужа ни гроша, ни разу не сделала никаких замечаний по поводу бумаг, которые нотариус Крюшо представлял ей для подписи. Гордость, нелепая и тайная гордость, благородство душевное, постоянно оскорбляемое г-ном Гранде, преобладали в ее поведении. Она ходила неизменно в платье зеленоватого левантина, привыкнув носить его по целому году, в большой белой нитяной косынке, в соломенной шляпе и почти всегда в переднике из черной тафты. Редко выходя из дому, она мало изнашивала башмаков. Словом, для себя она никогда ничего не желала. И Гранде, чувствуя иногда угрызения совести при воспоминании, как много времени прошло со дня выдачи шести франков жене, давал ей обыкновенно «на булавки» при продаже сбора винограда. Четыре или пять луидоров из денег, уплаченных голландским или бельгийским покупателем урожая с виноградников мужа, составляли наиболее определенный ежегодный доход г-жи Гранде. Но после того как она получала свои пять луидоров, супруг часто говорил ей, словно кошелек был у них общий: «Не можешь ли ты одолжить мне несколько су?» – и за зиму он таким образом отбирал у нее несколько экю из «булавочных» денег, а бедная женщина была счастлива, что может что-то сделать для человека, которого духовник изображал ей как ее господина и повелителя. Когда Гранде вынимал из кармана монету в сто су, назначенную на кое-какие месячные расходы – нитки, иголки и мелочи туалета дочери, – он никогда не забывал, застегнув жилетный карман, сказать жене:
– А тебе, мать, не нужно ли сколько-нибудь?
– Друг мой, – отвечала г-жа Гранде с чувством материнского достоинства, – там видно будет.
Напрасное величие души! Г-н Гранде считал себя весьма щедрым по отношению к жене. Философы, встречая в жизни натуры, подобные Нанете, г-же Гранде, Евгении, не вправе ли полагать, что в основе воли провидения лежит ирония?
После обеда, за которым впервые зашел разговор о замужестве Евгении, Нанета отправилась за бутылкой смородинной наливки в комнату г-на Гранде и чуть не упала, сходя оттуда по лестнице.
– Дурища, – сказал ей хозяин, – неужто тебя угораздило свалиться? Я думал, ты ловчее других.
– Сударь, ступенька-то на лестнице еле держится.
– Она права, – сказала г-жа Гранде, – вам давно следовало распорядиться, чтобы починили эту ступеньку. Вчера Евгения чуть себе ногу не вывихнула.
– Ну, ладно, – обратился Гранде к Нанете, видя, что она совсем побледнела, – по случаю дня рождения Евгении и по тому случаю, что ты чуть не упала, выпей рюмочку смородиновки, подкрепись.
– Право, я ее заслужила, – сказала Нанета. – На моем месте всякий бы разбил бутылку, а уж я лучше себе локоть расшибу, да удержу бутылку в воздухе.
– Бедняжка Нанета, – сказал Гранде, наливая ей смородиновки.
– Ты ушиблась? – спросила Евгения, с сочувствием глядя на нее.
– Нет, ведь я всей поясницей удержалась.
– Ну, уж ради рождения Евгении починю вам лестницу, – сказал Гранде. – Нет у вас догадки ставить ногу в уголок. Там ступенька еще крепка.
Гранде взял свечу, оставив жену, дочь и служанку только при свете камина, ярко горевшего, и пошел в кухню за досками, гвоздями и инструментами.
– Не помочь ли вам? – крикнула ему Нанета, слыша, как он стучит на лестнице.
– Нет, нет! Дело привычное, – отвечал бывший бочар.
Как раз в то время, когда он сам чинил источенную червями лестницу и свистел изо всей мочи, вспоминая годы юности, в калитку постучалось трое Крюшо.
– Это вы там, господин Крюшо? – спросила Нанета, глядя сквозь решеточку.
– Я, – отвечал председатель.
Нанета отворила калитку, и при свете камина, отражавшемся на своде ворот, трое Крюшо разглядели вход в зал.
– Ах, вы с поздравлением, – сказала им Нанета, услышав запах цветов.
– Виноват, господа, – вскричал Гранде, узнавая голоса друзей, – сейчас буду к вашим услугам! Я человек негордый, вот кое-как сам прилаживаю ступеньку собственной лестницы.
– Работайте, работайте, господин Гранде. «И угольщик у себя дома голова», – сентенциозно заметил председатель, один усмехаясь на свой намек, которого никто не понял.
Мать и дочь Гранде поднялись со своих мест. Тут председатель, пока было темно, сказал Евгении:
– Позвольте мне, сударыня, пожелать вам сегодня, в день вашего рождения, жить долго, счастливо и в таком же добром здоровье, как и ныне.
Он поднес огромный букет редких в Сомюре цветов; потом, сжимая локти наследницы, он поцеловал ее с обеих сторон в шею с галантностью, от которой Евгении стало неловко. Председатель, похожий на длинный ржавый гвоздь, воображал, что так действуют светские волокиты.
– Однако вы не церемонитесь! – сказал Гранде. – Так и быть, вольничайте, господин председатель, по случаю семейного праздника!
– В обществе вашей дочери, – отвечал аббат Крюшо, держа букет в руках, – всякий день был бы для моего племянника праздником.
Аббат поцеловал руку Евгении. А старик нотариус попросту расцеловал девушку в обе щеки и промолвил:
– Как время-то наше идет! Что ни год, то двенадцать месяцев.
Ставя свечу на место, перед часами, Гранде, который никогда не мог отвязаться от шутки, показавшейся ему забавной, и повторял ее до пресыщения, сказал:
– Так как сегодня праздник Евгении, возжем светильники.
Он старательно снял ветвистый канделябр, надел по розетке на каждую подставку, взял из рук Нанеты сальную новую свечу, обернутую снизу бумагой, воткнул ее в подсвечник, укрепил, зажег и сел возле жены, поглядывая поочередно на друзей, на дочь и на обе свечи. Аббат Крюшо, низенький, пухлый, жирный человек в рыжем гладеньком парике, с лицом старой картежницы, вытянул ноги, обутые в прочные башмаки с серебряными пряжками, и спросил:
– А что, Грассены не приходили?
– Нет еще, – отвечал Гранде.
– А разве они должны прийти? – спросил старый нотариус с гримасой на лице, рябом, как шумовка.
– Я думаю, – отвечала г-жа Гранде.
– Ну как, собрали виноград? – спросил Гранде председатель Бонфон.
– Везде! – ответил старый винодел, вставая и прохаживаясь взад и вперед по залу; при этом он выпятил грудь движением, исполненным той же горделивости, что и слово «везде».
В дверь коридора он увидел, что Нанета-громадина при свече сидит у очага, собираясь там заняться пряжей, чтобы не мешать торжеству.
– Нанета, – сказал он, выходя в коридор, – загаси-ка ты и очаг и свечу да садись с нами. Право, в зале хватит места на нас всех.
– Но у вас, сударь, будут знатные гости.
– А чем ты хуже их? Они ровно столько же из адамова рода, как и ты.
Гранде возвратился к председателю и спросил его:
– Урожай ваш продали?
– Нет, откровенно сказать – приберегу. Коли сейчас вино хорошо, через год будет еще лучше. Владельцы, ведь вы знаете, договорились не спускать условленной цены, и нынче бельгийцы нас не обломают. А уедут, – ну что же, воротятся.
– Да, но будем держаться крепко, – сказал Гранде таким тоном, что председатель затрепетал.
«Уж не ведет ли он переговоры?» – подумал Крюшо.
В эту минуту стук молотка возвестил о приходе семейства Грассен, и их появление прервало разговор, завязавшийся между г-жой Гранде и аббатом.
Госпожа де Грассен принадлежала к числу тех маленьких женщин, подвижных, пухленьких, белых и румяных, которые благодаря затворническому провинциальному быту и привычкам добродетельной жизни и в сорок лет еще моложавы. Они похожи на последние розы поздней осени: вид их приятен, но в лепестках есть какой-то холодок и аромат их все слабеет! Одевалась она довольно хорошо, выписывая парижские моды, задавала тон всему Сомюру и устраивала у себя вечера. Муж ее, бывший квартирмейстер императорской гвардии, тяжело раненный под Аустерлицем и вышедший в отставку, сохранял, при всем своем почтении к Гранде, подчеркнутую прямоту военного человека.
– Здравствуйте, Гранде. – сказал он, протягивая виноделу руку с подчеркнутым выражением превосходства, которым он постоянно подавлял господ Крюшо. – Сударыня, – обратился он к Евгении, сначала поклонившись г-же Гранде, – вы всегда прекрасны и умны. Право, не знаю, что возможно вам пожелать.
Он преподнес свой подарок, который внес за ним слуга: ящичек с капским вереском – цветком, недавно привезенным в Европу и весьма редким.
Г-жа де Грассен очень сердечно поцеловала Евгению и, пожав ей руку, сказала:
– Адольф взялся передать вам мой маленький подарок.
Высокий белокурый молодой человек, бледный и хрупкий, с довольно хорошими манерами, по виду робкий, но только что промотавший в Париже, куда он ездил изучать право, восемь или десять тысяч франков сверх своего содержания, подошел к Евгении, поцеловал ее в обе щеки и преподнес ей рабочую шкатулку с принадлежностями из позолоченного серебра – настоящий рыночный товар, несмотря на дощечку с готическими инициалами Е. Г., неплохо вырезанными и позволявшими предполагать, что и вся отделка очень тщательна. Открывая шкатулку, Евгения испытала неожиданную и полную радость, которая заставляет девушек краснеть, вздрагивать, трепетать от удовольствия. Она взглянула на отца, словно желая спросить, можно ли ей принять подарок, и г-н Гранде сказал что-то вроде: «Возьми, дочь моя», – с таким выражением, какое сделало бы честь иному актеру. Все трое Крюшо остолбенели, заметив радостный и оживленный взгляд, брошенный на Адольфа де Грассена наследницей, которой подарок показался неслыханным сокровищем.
Г-н де Грассен предложил Гранде щепотку табаку, сам захватил такую же, стряхнул пыль с ленточки Почетного легиона, красовавшейся в петлице его синего фрака, потом посмотрел на г-на Крюшо с торжествующим видом, казалось, говорившим: «Ну-ка, отбейте этакий удар!» Г-жа де Грассен с деланным простодушием насмешливой женщины взглянула на синие вазы с букетами Крюшо, как будто искала, где же их подарки. При создавшемся щекотливом положении аббат Крюшо предоставил обществу расположиться кружком перед камином, а сам прошелся вместе с Гранде по залу. Когда оба старика оказались в нише окна, наиболее отдаленной от Грассенов, священник сказал скряге на ухо:
– Эти люди швыряют деньги в окошко.
– Что ж такого, коли они попадают в мой подвал, – ответил старый винодел.
– Если б вам захотелось, вы бы вполне могли подарить дочери золотые ножницы, – промолвил аббат.
– Мои подарки получше ножниц, – ответил Гранде.
«Экий олух мой племянник! – подумал аббат, глядя на председателя, растрепанные волосы которого делали еще более непривлекательной его смуглую физиономию. – Неужели не мог он придумать какую-нибудь имеющую ценность безделушку!»
– Мы составим вам партию, госпожа Гранде, – сказала г-жа де Грассен.
– Но сегодня мы все в сборе, можно играть за двумя столами…
– Раз сегодня день рождения Евгении, играйте все вместе в лото, – сказал папаша Гранде, – в нем примут участие и эти двое детей.
Бывший бочар, никогда не игравший ни в какие игры, указал на дочь и на Адольфа.
– Ну, расставляй столы, Нанета.
– Мы вам поможем, мадемуазель Нанета, – весело сказала г-жа де Грассен, от всей души радуясь, что доставила радость Евгении.
– Никогда в жизни не была я так довольна, – сказала ей наследница. – Нигде не видывала я такой прелести.
– Это Адольф привез из Парижа, сам выбрал, – шепнула ей на ухо г-жа де Грассен.
– Так, так, продолжай свое дело, интриганка проклятая! – ворчал про себя председатель. – Вот будет когда-нибудь у тебя или у супруга твоего судебное дело, так вряд ли оно удачно для вас повернется.
Нотариус сидел в углу и, со спокойным видом посматривая на аббата, думал:
«Пускай себе де Грассены хлопочут, – мое состояние вместе с состоянием брата и племянника доходит до миллиона ста тысяч франков. У де Грассенов самое большее – половина этого, да еще у них дочь. Пускай дарят что им угодно! И наследница и подарки – все будет наше».
В половине девятого были поставлены два стола. Хорошенькой г-же де Грассен удалось посадить сына возле Евгении. Действующие лица этой сцены, чрезвычайно занимательной, хотя и обыденной на первый взгляд, запаслись пестрыми карточками с рядами цифр и, закрывая их марками из синего стекла, как будто слушали шутки старого нотариуса, сопровождавшего каждое выходившее число каким-нибудь замечанием, а на самом деле все думали о миллионах г-на Гранде. Старый бочар кичливо поглядывал на розовые перья и свежий наряд г-жи де Грассен, на воинственную физиономию банкира, на Адольфа, на председателя, аббата, нотариуса и говорил себе:
«Они здесь ради моих денег. Они приходят сюда скучать ради моей дочки. Ха-ха! Моя дочь не достанется ни тем, ни другим, и все эти господа – только крючки на моей удочке».
Это семейное празднество в старом сером зале, тускло освещенном двумя свечами; этот смех под шум самопрялки Нанеты-громадины, искренний только у Евгении да у ее матери; эта мелочность при таких огромных доходах; эта девушка, напоминающая птиц – жертв высокой цены, по какой они идут, неведомо для себя, опутанная и связанная изъявлениями дружбы, которую она мнила искренней, – все содействовало тому, чтобы сделать эту сцену грустно-комической. Впрочем, не была ли она сценой обычной во все времена и для всех стран, только сведенной к простейшему выражению?
Фигура старого Гранде, пользовавшегося с огромной выгодой для себя мнимой привязанностью двух семей, господствовала в этой драме и вскрывала ее смысл. Не был ли он воплощением единственного божества, в которое верит современный мир, олицетворением могущества денег? Нежные человеческие чувства занимали здесь только второстепенное место в жизни; ими одушевлялись три чистых сердца: Нанеты, Евгении и ее матери. Зато сколько неведения в их простодушии! Евгения с матерью понятия не имели о богатстве Гранде; они судили о житейских делах по своим смутным представлениям о них; деньги они не презирали и не почитали, привыкнув обходиться без них. Чувства их, неведомо для них подавленные, но живучие, составлявшие тайную основу их существования, делали их любопытным исключением среди этих людей, жизнь которых была ограничена чисто материальными интересами. Страшный удел человека! Всякое счастье исходит от неведения. В ту минуту, когда г-жа Гранде выиграла «котел» в шестнадцать су, самый крупный, какой когда-либо выпадал в этом зале, и когда Нанета-громадина смеялась от радости, глядя, как ее хозяйка прячет в карман эту большую сумму, у подъезда раздался стук молотка, и с такой силой, что женщины привскочили на стульях.
– Сомюрцы так не стучатся, – сказал нотариус.
– Можно ли так колотить? – сказала Нанета. – Что они, дверь, что ли, хотят выломать?
– Кого это черт принес? – воскликнул Гранде.
Нанета взяла одну из двух свечей и пошла отворять в сопровождении Гранде.
– Гранде! Гранде! – воскликнула жена его и, движимая смутным чувством страха, бросилась к дверям зала.
Игроки переглянулись.
– Не пойти ли и нам? – проронил г-н де Грассен. – Мне сдается, этот стук не к добру.
Господин де Грассен едва успел заметить фигуру молодого человека, сопровождаемого комиссионером конторы дилижансов, который нес два огромных чемодана и спальный мешок. Гранде резко повернулся к жене и сказал:
– Госпожа Гранде, вернитесь к вашему лото. Дайте мне переговорить с этим господином. – Затем он быстро затворил дверь в гостиную, где возбужденные игроки снова заняли свои места, но игры не продолжали.
– Это кто-нибудь из сомюрских? – спросила мужа г-жа де Грассен.
– Нет, приезжий.
– Не иначе как из Парижа.
– В самом деле, – сказал нотариус, вытаскивая старые часы в два пальца толщиной, похожие на голландский корабль, – сейчас ровно девять часов. Тьфу ты пропасть! Дилижанс главной конторы никогда не опаздывает.
– А человек-то молодой? – спросил аббат Крюшо.
– Да, – отвечал г-н де Грассен. – С ним багажа по меньшей мере кило триста.
– Нанета не возвращается, – заметила Евгения.
– Возможно, кто-нибудь из ваших родственников приехал, – сказал председатель.
– Возобновим ставки, – тихо воскликнула г-жа Гранде. – Но голосу я заметила, что господин Гранде чем-то недоволен. Может быть, ему будет неприятно, ежели он заметит, что мы говорим о его делах.
– Это, верно, ваш двоюродный брат, – обратился Адольф к своей соседке. – Очень красивый молодой человек, я видел его на балу у господина де Нусингена…[8]
Адольф остановился: мать толкнула его ногой и, громко попросив у него два су для своей ставки, шепнула ему на ухо:
– Да замолчи ты, простофиля!
В эту минуту вошел Гранде без Нанеты-громадины: шаги ее и комиссионера послышались на лестнице. Вслед за Гранде шел приезжий, возбудивший такое любопытство и так живо занявший воображение присутствовавших; его нежданное прибытие в этот дом и в среду этих людей, куда он свалился как снег на голову, можно было сравнить с падением улитки в улей или с появлением павлина на каком-нибудь невзрачном деревенском птичьем дворе.
– Садитесь к огню, – сказал Гранде приезжему.
Прежде чем сесть, молодой человек очень мило поклонился присутствовавшим. Мужчины поднялись и ответили вежливым поклоном, дамы чопорно сделали реверанс.
– Вы, верно, озябли, сударь? – сказала г-жа Гранде. – Вы, может быть, приехали из…
– Ах, уж эти женщины! – сказал старый винодел, отрываясь от чтения письма, которое держал в руке. – Дайте же человеку отдохнуть.
– Но, папенька, может быть, гостю вашему что-нибудь нужно, – сказала Евгения.
– У него у самого есть язык, – строго ответил винодел.
Только незнакомец удивился этой сцене, прочие привыкли к деспотической манере хозяина. Тем не менее после этих двух вопросов и ответов незнакомец поднялся с места, повернулся спиной к огню, поднял ногу, чтобы согреть подошву сапога, и сказал Евгении:
– Благодарю вас, кузина, я обедал в Туре. И мне ничего не нужно, – прибавил он, глядя на Гранде. – Я даже совсем не устал.
– Вы, сударь, приехали из столицы? – спросила г-жа де Грассен.
Шарль – так звали сына парижского г-на Гранде, – слыша обращенный к нему вопрос, достал маленький лорнет на цепочке, висевший у него на шее, приставил его к правому глазу, чтобы рассмотреть и то, что было на столе, и тех, кто был за столом, оглядел весьма беззастенчиво г-жу де Грассен и, все обозрев, сказал ей:
– Да, сударыня. Вы играете в лото, тетушка? – прибавил он. – Пожалуйста, продолжайте. Разве можно бросать такую занимательную игру…
«Я была уверена, что это кузен», – думала г-жа де Грассен, кокетливо поглядывая на него.
– Сорок семь! – выкрикнул старый аббат. – Ставьте же марку, госпожа де Грассен, ведь это ваш номер.
Господин де Грассен положил стеклянный кружочек на карту жены, между тем как она, охваченная грустными предчувствиями, наблюдала попеременно то за парижским кузеном, то за Евгенией, не думая о лото. Время от времени молодая наследница бросала беглые взгляды на двоюродного брата, и жена банкира легко могла заметить в них crescendo[9] удивления или любопытства.
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 70 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Різниця у світоглядних позиціях на місце людини у суспільстві у Стендаля та Бальзака | | | III. АГОНИЯ 1 страница |